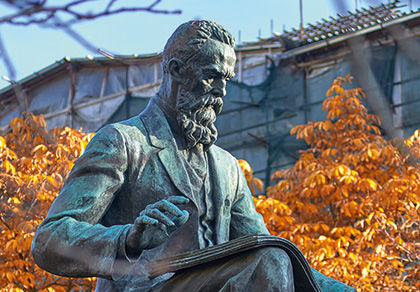Ещё до революции сюда приезжали отдыхать и творить писатели и художники, музыканты и архитекторы. Неудивительно, что Куоккала ассоциируется у нас с репинскими «Пенатами» и знаменитой «Чукоккалой», а соседнее Комарово — с Ахматовой. Все великие имена невозможно даже перечислить: здесь жили или часто гостили Горький, Чуковский, Маяковский, Пуни, Фаберже, Короленко, Л. Андреев, Шаляпин, Евреинов, Кропоткин, Кшесинская, Гиппиус, Гумилёв, Есенин, Блок, Бабель, Мандельштам, Шостакович, Соловьёв-Седой, Ботвинник, Е. Шварц, И. П. Павлов, Ю. Герман, Г. Козинцев, Каравайчук, Товстоногов, Басилашвили... К Ахматовой приезжали Бродский, Аксёнов, Битов, Раневская.… На тёплом взморье прошло детство Ю. Анненкова, Д. С. Лихачёва.

До нынешнего времени воды залива до самого Выборга служат источником пропитания рыболовецким артелям и удовольствия — рыбакам-любителям. Даже само название — Куоккала — возможно, происходит от финского koukku — рыболовный крючок. Русские рыбаки селились здесь в незапамятные времена, первую православную церковь воздвигли ещё в XIII веке; и когда в 1323 году эти земли отошли к Швеции, русским по-прежнему дозволялось ловить рыбу за установленной границей. Это право окончательно утрачено было только во время Ливонской войны, когда Понтус Делагарди отнял эти земли у России. О военном походе шведов напоминает сохранившееся название Понтусова болота, по которому для перевозки пушек проложили гать, ныне скрытую под слоем мха. К России эти места вновь отошли только в 1721 году, а в 1812-м они были отнесены к Великому Финляндскому княжеству. Тогда из соседних деревень сюда потянулись переселенцы.
Куоккала разрасталась постепенно. В XIX веке Лянси-Куоккалу, западную часть, иначе называли Афанасово (Ванасси), по кабаку Афанасьева, стоявшему на прибрежной дороге. Перя-Куоккала (Дальняя Куоккала) также имела русское название — Курносово, по имени местного землевладельца Курнойнена. Курносовским назывался и почтовый тракт, идущий вдоль берега залива к северо-западу от Сестрорецка. Дальняя Куоккала в свою очередь условно делилась на два посёлка: Раяйоки и Оллила. Келломяки (будущее Комарово) начали застраивать во время «дачного бума», когда появилось железнодорожное сообщение.

Жизнь финских поселян стала быстро меняться после 1870 года, когда через Куоккалу проложили железнодорожную магистраль от Петербурга до Риихимяки. Из захолустья деревня превратилась в модное дачное место. Столичные богачи стали скупать здесь землю для возведения роскошных вилл, а публика попроще снимала на лето дачи у местных жителей. Новый курорт оказался совсем близко от столицы, но при этом как бы за границей: Финляндия начиналась сразу за Белоостровом. К концу XIX века в посёлке было уже две железнодорожных станции: в Куоккале и в Оллиле (названной по имени землевладельца Олафа Уллберга, построившего станцию на свои деньги). А в 1917 году почти у самой границы появилась ещё одна станция, Раяйоки, украшенная великолепным вокзалом архитектора Главного управления железных дорог Финляндии Бруно Гранхольма (разрушена в 1944 году).
Финская автономия отличалась некоторым демократизмом, не так давил полицейский надзор, поэтому здесь с удовольствием жили не только аристократы и интеллигенты, но и разного рода вольнодумцы-нелегалы. В начале ХХ века на даче «Линтула» выпущенный из Петропавловской крепости Горький писал статьи против царского режима, собирал средства для бастовавших рабочих. На даче «Ваза» некоторое время скрывался вождь мирового пролетариата с супругой, совершая отсюда вылазки по партийным делам. А в Хаапале, соседней деревушке, революционно настроенные эмигранты даже организовали «фабрику бомб». Не зря большевики называли Финляндию «красным тылом революции».
Но славилась Куоккала не революционным настроем, а весёлой и насыщенной дачной жизнью. Многие горожане на лето отказывались от своих городских квартир и, экономя деньги, сдавали мебель на склады, а мелкий скарб перевозили на дачу. Нанимали всегда целый дом с флигелями, службами, сараями, пляжными будками, так что места хватало и для обширного семейства, и для многочисленных гостей, которые валом валили в благословенный край. Дачная жизнь была удобно организована: имелись лавки, церковь, аптека и даже театр (принадлежавший семейству Репиных). Финские крестьяне бесперебойно снабжали дачников овощами и молочными продуктами. Творческие люди жили на дачах всё лето, чиновные приезжали на выходные.
Дачное общество жило тесным миром: ходили друг к другу в гости, устраивали прогулки и пикники, благотворительные концерты и фейерверки, играли в крокет, серсо, катались на велосипедах. Дети стайками носились по посёлку, постоянно что-то затевая. «Что за чудо веселья, развлечений, озорства, лёгкости общения, театральных и праздничных экспромтов была эта Куоккала!» — вспоминал Д. С. Лихачёв. «Когда здесь русские господа жили, как здесь было весело, сколько было праздников. На Троицу, бывало, всё берёзками украшено — даже поезда с берёзками ходили. На берегу вечерами оркестр играл. Компании водили. В ветреную погоду змея пускали. Тогда и взрослые и дети пускать змея любили. На Иванов день костры жгли, бочки со смолой. В крокет играли. На станции встречать поезда ходили. С поезда разъезд был. Много таратаек ехало. Финны русских господ любили... Русские вежливые были, приветливые», — вспоминала финская крестьянка.

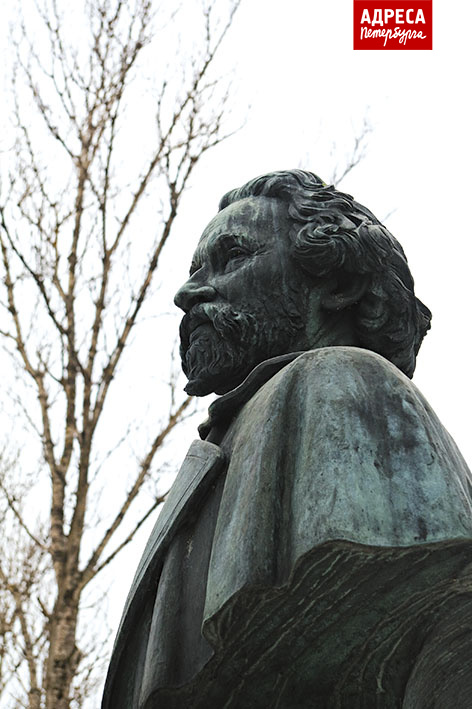


В послевоенные времена побережье здесь густо застроили академическими и писательскими дачами, домами отдыха всех без исключения творческих союзов. Простые советские люди тоже полюбили эти места. Наверное, трудно найти ленинградца, который в детстве не провёл здесь хотя бы месяц в одном из бесчисленных детских садов или пионерских лагерей, а взрослым не получил бы от производства путёвку в здешний пансионат, санаторий или дом отдыха. В последние годы облик Репина, которое всё чаще именуют петербургской Рублёвкой, и окрестных посёлков стремительно меняется. На месте обветшалых дач то тут, то там появляются коттеджные посёлки, а с тех пор как здесь поселилась политическая и деловая элита Петербурга, сюда стремятся все, у кого хватает денег и амбиций.